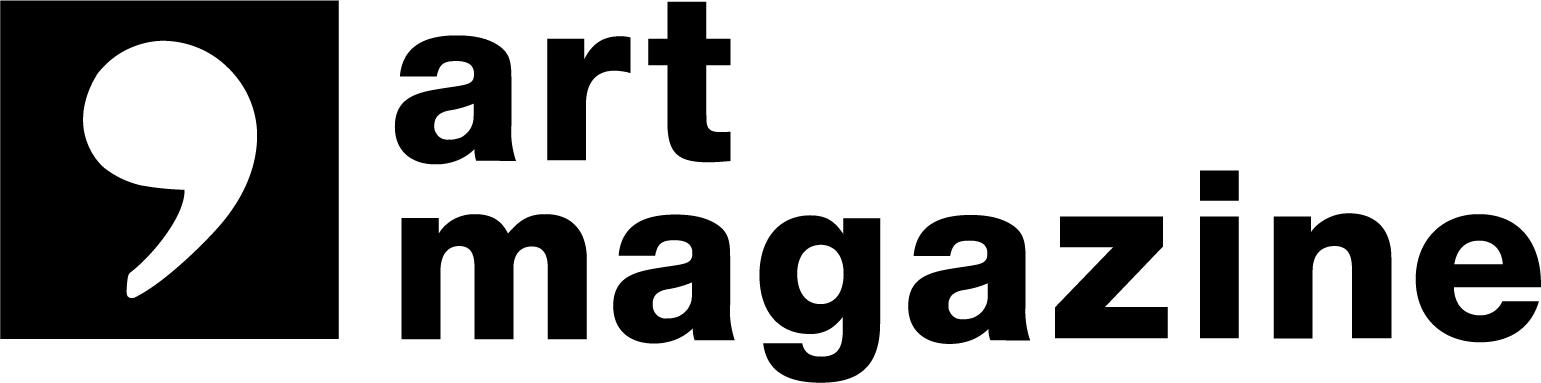Итак, Эпименид известен, прежде всего, как представитель протофилософской мысли античной культуры. Он скорее маг и целитель, чем мыслитель и философ. Тем не менее, его несохранившиеся труды, но существующие фрагменты свидетельствуют о том, что размышлял он уже не сугубо мифологически, а пытался найти рациональное объяснение тем или иным природным, социальным явлениям.
То, что он был не просто чародеем, но все же и лекарем, ученым свидетельствует Плутарх в работе «Пир семи мудрецов». В частности, в ней говорится, что Эпименид был осведомлен о лечении в вопросах здоровой пищи и смешивания вина, знал о свойствах чистой воды, об омовении женщин, о времени для коитуса мужчин с женщинами и о зачатии детей [Plut. Sept. sapient. сonv. 158a-b]. Такие знания для Эпименида не являются случайными. Как отмечает исследовательница Марина Вольф, если посмотреть на культурную ситуацию, при которой происходило становление философии, то можно выделить ряд особенностей, дающих основания выдвинуть такой тезис: философское знание развивалось как продолжение определенного сакрального знания, было «профессиональным» знанием путешествующих прорицателей-врачей – одного из ремесленных объединений того времени [Вольф, 2014 с. 79].
А теперь вопрос: «Почему же Эпименида пригласили для лечения народа Афин от эпидемии»? Мысли ученых по этому вопросу, в определенной степени, различаются. Однако, на наш взгляд, более вероятна та версия, которая подчеркивает, что Эпименид был не просто жрецом и прорицателем, а одним из «семи мудрецов» античного мира. Так, сочетание статуса известной личности, обладающего мудростью, и, вместе с тем, то, что он был из рода жрецов бога Зевса [Herman, 1989, Вольф, 2014], натолкнуло чиновников Афин на то, чтобы пригласить именно его в качестве очистителя полиса. Сам же ритуал очищения Эпименидом античного полиса от эпидемии вмещал такие составляющие:
1) разного рода жертвоприношения (как животных, в частности овец, так и людей);
2) лекарственные снадобья, сделанные из трав;
3) песнопения и чтения стихов (гекзаметров);
Кстати, все перечисленные три пункта созвучны с пифагорейской традиции, которая, по свидетельству Ямвлиха, предполагала, что музыка оказывает существенное влияние на процесс лечения, если обладать правильными знаниями относительно игры на музыкальных инструментах [De vita Pyth. 163].
Такой подход к преодолению эпидемий был обусловлен еще и тем, что, как отмечал Гиппократ в трактате «О древней медицине», тот, кто не знает, что такое человек, кем он является, как и из чего возник, не может овладеть медицинским искусством и правильно лечить людей [De vetere medicina, p. 20]. Соответственно, философская постановка любых вопросов связана не только с абстрактной рефлексией, но с решением разного рода практических проблем, в частности, медицинских. Поэтому, как подчеркивает Даниил Дорофеев, медицина благодаря причастности к философии была по большей части именно теоретической – иначе она просто бы не могла стать наукой. Медицина не сводилась к своей прикладной функции; объяснения и понимания были ее целью не меньшей степени, чем лечение. Точнее, первого достигали через другое. Поэтому медицину не воспринимали как ремесло, а оценивали как искусство, сравнимое по своему рангу с музыкальным и гимнастическим [Дорофеев, 2017 с. 200].
Следовательно, мудро подчеркивает Джон Манусакис в очерке «Город больной: Софокл, Фукидид и Камю о коронавирусе» замечает: «Чума – это болезнь общества, города, полиса. По сути, можно сказать, что чума – это политическая (political) болезнь. Как политическая болезнь – чума проявляется как эпидемической – то есть случайной, что приходит в мое тело извне, от другого – так и эндемической, что исходит изнутри метафорического тела полиса, или «полисного тела» (body politic). Потому полис, распространяя гражданское право на каждого из своих членов, присваивает их всех себе (даже те, кто исключен из него, исключаются со ссылкой на него). Что бы там ни было вне города и не от города – является его другом, ведь полис основывается на этом» [Manoussakis, 2020 с. 1-2].
Подобное пониманием сути происхождения эпидемий принадлежит и другому представителю античной философии – Эмпедокл Акрагантский. Как и Эпименид, Эмпедокл является автором трактата «Очищения», но, в случае с последним, фрагменты ее сохранены до наших дней. Что же и как видел болезни, в т.ч. и эпидемии этот ранний древнегреческий мыслитель с о. Сицилия?
Как отмечает Генрих Якубанис, эпоха, когда царит вражда, полна не только ненависти, убийств, злости, но и недугов [Якубанис, 1994: с. 227]. Соответственно, болезни в человеке возникают уже не как вызванные казнью небес, как у Эпименида, а на онтологическом уровне. Здоровье возможно лишь тогда, когда возможна гармония с собой и миром, а затем – всеобщая гармония. В этом контексте его взгляды близки к мыслям одного из самых известных врачей-пифагорейцев – Алкмеона, который объясняет здоровье именно как равновесие стихий, то есть холодного и теплого, горького и сладкого, влажного и сухого и т.д. [DK 24 В 4]. Болезни же, согласно этому философу, обусловленные чрезмерным преобладанием (μοναρχία) одной из этих стихий.
Важно также вспомнить принцип Эмпедокла «подобное познается подобным» (лат. Similia similibus сurantur). По мнению мыслителя, если мы видим, что в обществе творится беззаконие, то причину деструктивного или плохого, например, эпидемий, нужно искать не во внешнем мире, а в себе. Ведь чувства, которые преобладают в людях, постепенно охватывают все социальное пространство. Уместным здесь будет вспомнить еще одну мысль Джона Манусакиса: «трудности нашей новой реальности – ограничение в путешествиях и мобильности, ограничения в доступности различных товаров, ограничения, наложенные на работу и удовольствие – это именно те трудности, которые ожидают индивидуализированного гражданина, поскольку чума заставляет считать Другого, когда он реабилитирует себя в политическом пространстве. Человек может жить с другими только при условии, что он живет и для других. Если я не живу для других, то жизнь с другими – это ад» [Manoussakis, 2020 с. 3].
Итак, согласно показаниям Диогена Лаэрция [DL VIII 70] и Плутарха [De Iside 79, 383D] мы можем говорить о двух случаях победы над эпидемией Эмпедокла: город Акрагант и город Селинунт. Рассмотрим каждый отдельно
Как говорит Климент Александрийский в «Строматах»: «Эмпедокла из Акраганта прозвали «запретителем ветров». О нем рассказывают, что он прекратил тяжелый оранжевый ветер, дувший с горы Акрагант, вызвавший заболевание у местных жителей и бесплодие у их жен» [Strom. VI, 30]. Соответственно, здесь мы видим, что Эмпедокл еще не вполне пользуется чисто лекарственными средствами. Здесь философия еще не отделена от медицины и неразрывно связана с религией и магией.
Вместе с тем, Диоген Лаэрций так пишет об исцелении от эпидемии малярии, которая имела место в соседнем с Акрагантом городе Селинунте: «Когда в Селинунт от вони в реке, что была вблизи, начался мор и люди умирали, а у женщин наблюдались выкидыши, то Эмпедокл придумал подвести туда две соседние реки, и вода, смешавшись, стала здоровой. Так прекратилась эпидемия» [DL VIIΙ 70].
Опять же мы видим здесь неотделимость медицины от ведовства, философии – от магии. Но это событие, как отмечает Уильям Ґатри «вполне правдоподобная история, которая согласуется с явным интересом Эмпедокла к использованию науки и техники для улучшения жизни людей. То, что эпидемия в Селинунте – это реальное историческое событие, подтверждают найденные монеты того времени, свидетельствующие об этом» [Guthrie, 1965 с. 133].
В лице Эмпедокла мы видим не просто врача или философа, но и ученого, который имел немалые знания в физике и биологии. Если в эпизоде с Акраганта мы видим в большей степени религиозный, культовый аспект деятельности философа, то в ситуации с Селинунтом – более научное решение этой проблемы, хотя и не лишенное мистического элемента.
И, наконец, последний античный сюжет касательно прекращения эпидемии связан со смеющимся философом Демокритом. Нужно сказать, что единственное сохранившийся фрагмент, в котором есть упоминание о данном событии содержится в труде представителя второй софистики Флавия Филострата «Жизнеописание Аполлония». В нем, можем видеть следующее: «Кто из мудрецов отказался бы прийти на помощь такому городу, вспомнив, что Демокрит однажды избавил от эпидемии абдеритов, что афинянин Софокл, как говорят, укрощал гнев ветров, когда они дули не в свое время» [VIII, 7]. Гипотетически, мы можем предположить, что Демокрит тоже использовал для лечения как врачебные элементы, так и знахарские (магические).
Подытоживая, можем заключить, что философия с древнейших времен как теоретически, так и практически стремилась к тому, чтобы преодолеть те или иные кризисные ситуации социума, в том числе и эпидемии. Философия старалась помочь человеку вырваться ко благу из пучины дурного и зловредного через понимание высшего порядка, т.е. налаживание ситуации. И тогда не странно, что античные мыслители – Демокрит, Эмпедокл, Эпименид – видели причину и путь к преодолению такой сложной ситуации как естественно, так и трансцендентно, тем самым показывая, что недостаточно только лекарственных средств, нужно еще изменение внутреннее и перемена образа жизни.
Литература:
Вольф, М.Н. (2006). Ранняя греческая философия и Древний Иран. Санкт-Пектербург: Алетейя, 2006.
Дорофеев, Д.Ю. (2017). Философия и медицина в Древней Греции. В: XXV научная конференция «Универсум Платоновской мысли»: «Платон и античная наука». Санкт-Петербург, 21–22 июня 2017. Сборник статей (сс. 197–205). СПб.: Издательство РХГА.
Якубанис, Г. (1994). Эмпедокл: философ, врач и чародей. Киев: СИНТО.
Die Fragmente der Vorsokratiker. (1912). Bd.1 / Hermann Diels, Walther Kranz. – Berlin: Weidmannsche buchhandlung. [=DK].
Diogenes Laertius (1925). Lives of Eminent Philosophers, Volume I-II, Translated by R. D. Hicks. Loeb Classical Library 184. Cambridge, MA: Harvard University Press. [=DL]
Guthrie, W. K. C. (1965). A History of Greek Philosophy, Volume 2: The Presocratic Tradition from Parmenides to Democritus, Cambridge University Press [=Guthrie 1965]
Herman, G. (1989). Nikias, Epimenides and the Question of Omissions in Thucydides, The Classical Quarterly, Vol. 39, No. 1, pp. 83-93. [=Herman 1989]
Hippocrates (1868). De vetera medicina / Collected Works I. Hippocrates. W. H. S. Jones. Cambridge. Harvard University Press [=De vetera medicina]
Iamblichus (1815). De Vita Pythagorica: Gr. et Lat. Textum post Kusterum ad fidem. – New York Public Library [=De vita Pyth.]
Manoussakis, J. (2020). The City is Sick: Sophocles, Thucydides, Camus at the Times of Coronavirus / Електронний ресурс / Режим доступу:
https://www.academia.edu/42201882/THE_CITY_IS_SICK_Sophocles_Thucydides_Camus_at_the_Times_of_Coronavirus [=Manoussakis 2020].
Clement Alexandrii (1859). Stromate, Patrologiae graeca / Ed. J.-P. Migne. – T.9 – pp.9-206 [=Strom]
Thucydide (1942). History of the Peloponnesian War, Ed. H.S. Jones – J.E. Powell, Oxford. [=Thuc.]
Πλούταρχος (1928). Επτά σοφών συμπόσιον, Plutarch. Moralia, Volume II: How to Profit by One’s Enemies. On Having Many Friends. Chance. Virtue and Vice. Letter of Condolence to Apollonius. Advice About Keeping Well. Advice to Bride and Groom. The Dinner of the Seven Wise Men. Superstition. Translated by Frank Cole Babbitt. Loeb Classical Library 222. Cambridge, MA: Harvard University Press, рр.346-452. [=Sept. sapient. conv.]
Πλούταρχος (1936). Περί Ίσιδος και Οσίριδος, Plutarch Moralia, Volume V: Isis and Osiris. The E at Delphi. The Oracles at Delphi No Longer Given in Verse. The Obsolescence of Oracles. Translated by Frank Cole Babbitt. Loeb Classical Library 306. Cambridge, MA: Harvard University Press, pp.3-194. [=De Iside]