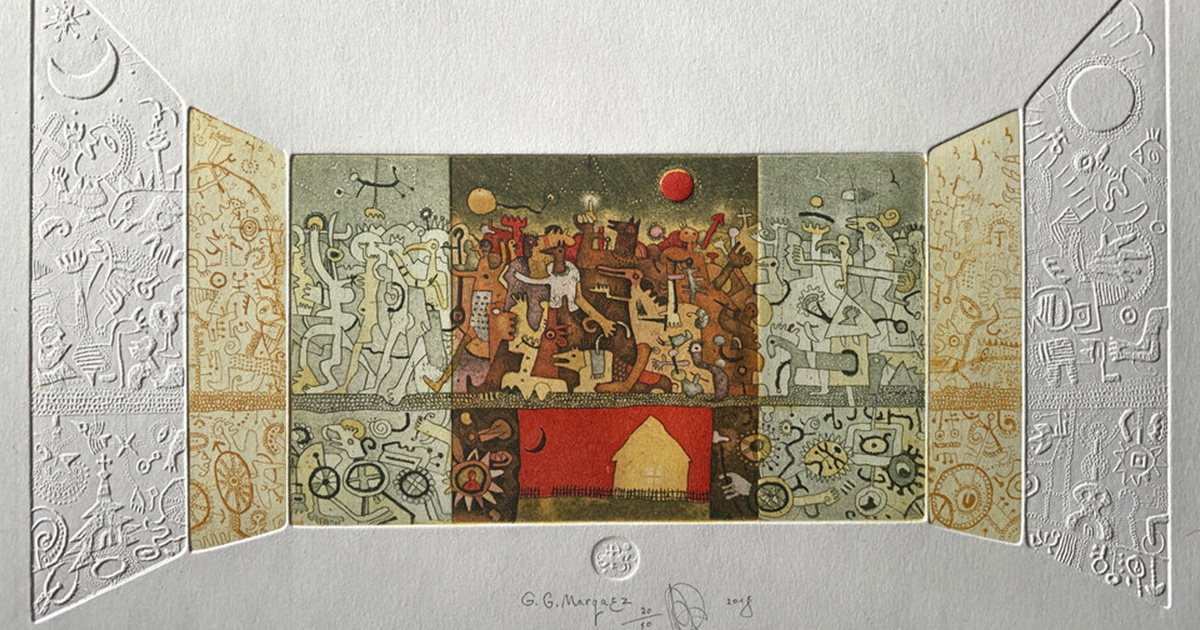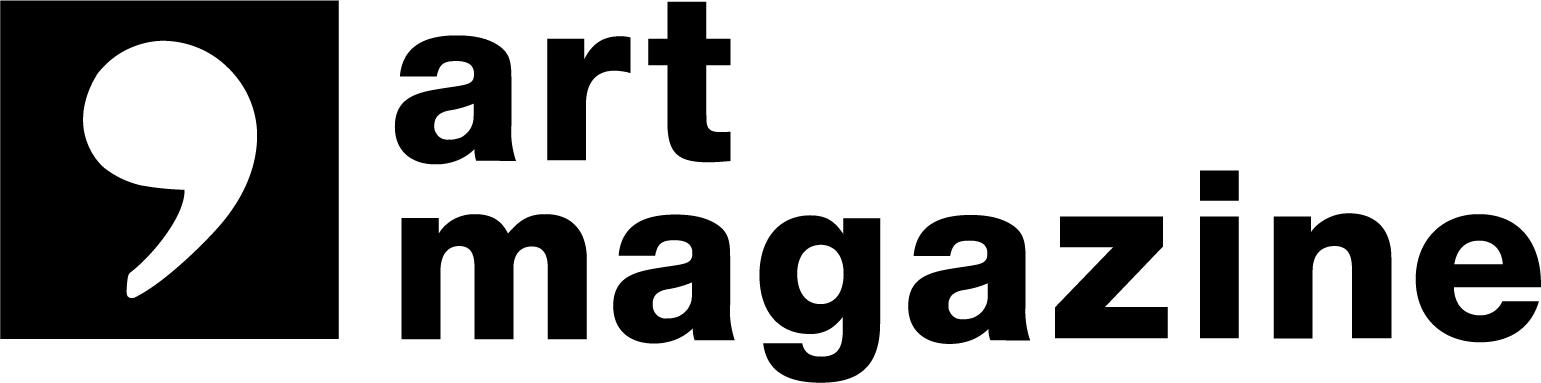ДИАЛОГИ ПРО: Луиджи Гаджеро
СТАТТЯ
ДИАЛОГИ ПРО: Луиджи Гаджеро
Интервью с дирижером Киевского симфонического оркестра состоялось 2 июня 2021 года. Сейчас, когда концерты Kyiv Symphony Orchestra с большим успехом прошли в престижнейших залах Европы, включая Берлинскую филармонию, и достойно представили высокое искусство воюющей страны, оно приобретает вневременной оттенок и более глубокий смысл. Смысл самой жизни, искусства и жизни в искусстве.
… я считаю, что в Украине самая красивая народная музыка в мире… мне нравится в Украине работать с оркестром, потому что здесь есть Время… музыкальное искусство не в том, должен ли я делать «пааа…паааа» или «па», или ПА.ПА.ПА», речь идет о вопросе Почему?.. смысл исходит из искусства, из трансцендентности, из причины, по которой мы здесь… Солнце правды всегда рядом

Луиджи Гаджеро: – Я просматривал сайт с вашими статьями и действительно нахожу замечательным то, что вы делаете.
Виктор Гриза: – Это комплимент для Елизаветы, потому что это ее идея, ее воплощение, и я думаю, что это ее шедевр.
Л. Г.: – Я уже читал некоторые интервью и статьи, одна из них была об Андрее Тарковском.
Елизавета Зигура: – Да, 29 декабря его день рождения. В свое время я прочитала все его лекции по режиссуре и пересмотрела все изобразительные работы. Это Художник с большой буквы. Не могла обойти вниманием день его памяти.
Л. Г.: – Да, верно. Я помню, вы были на моем концерте с исполнением «Болеро»?
Е. З.: – О, да! Знаете, это был невероятный опыт. Музыку прослушала на одном дыхании от начала до конца… Я люблю это планомерное возрастание от начала до кульминации. И Ваше исполнение было душераздирающим…
Л. Г.: – Спасибо, мне очень приятно это слышать.
В. Г.: – На каких языках Вы говорите?
Л. Г.: – Итальянский, английский, немецкий, французский. И я немного понимаю по-украински.
В. Г.: – Я знаю несколько слов по-итальянски – scusi, ragazza, bon giorno, bellissimo.
Л. Г.: – Bellissima ragazza – звучит великолепно!
В. Г.: – Вы работали в разных странах. Что можете сказать о современных украинских композиторах?
Л. Г.: – Прежде всего, я должен сказать одну важную вещь. Я считаю, что в Украине самая красивая народная музыка в мире. Традиционная музыка Украины глубока, прекрасна, в ней гармоничны мелодия и поэтический текст!.. Я не знаю другой страны, в которой была бы такая красивая, чудесная и глубокая народная музыка. И вероятно композиторам с их музыкальным слухом очень сложно в этой стране с такой великолепной традиционной музыкой.
В. Г.: – Вот как?
Л. Г.: – Да. Потому что любая бабушка в деревне может очень красиво петь. Вопрос: можно ли сделать все еще красивее и как?! Это испытание, это вызов.
Однако, я вот что хочу сказать. По моим наблюдениям в Украине есть два типа композиторов. Одни взяли для своего творчества ориентир западноевропейского авангарда. Они говорят, что, например, во Франции или в Германии есть такая-то музыка – давайте ее послушаем и попробуем сделать нечто похожее. Есть и другие композиторы, которые говорят – о, давайте послушаем нашу музыку и попробуем найти смысл в том, чтобы продолжить модернизировать нашу традицию.
Е. З.: – Лично Вам какие из них ближе?
Л. Г.: – Мне более интересны композиторы второго типа. Ну, а если говорить о любимых украинских композиторах, потому что вам нужны имена, я это знаю, то мой фаворит (из молодого поколения) — Максим Коломиец. Он не только очень хороший композитор, но и создает правильный настрой. Он учился этому в Германии, поэтому знает все современные музыкальные техники. При этом Максим не потерял связь со своей страной.
Так, например, в прошлом году мы играли его оперу «Ніч» по мотивам украинской народной песни. И это было необыкновенно красиво, потому что в этой опере сохранился дух традиции. Причем это относится не только к музыкальным традициям, прежде всего, я имею ввиду традиции страны. Надеюсь, я правильно понят.
В. Г.: – Да, а если бы без вокала?
Л. Г.: – Конечно, с вокалом проще. Но вот другой пример. Опять таки, Максим Коломиец написал оркестровую пьесу, она есть на канале YouTube. Это произведение появилось под вдохновением от стихотворения Пауля Целана, родившегося в Черновцах. Это единственное произведение автора, в котором он говорит об Украине, ее полях и красках… В стихотворении нет ни вокала, ни слов, но чувствуется запах и чувствуется, что оно исходит из чего-то… мелодичного, вечного и настоящего.
Кроме того, мне нравится Мирослав Скорик, который, к сожалению, недавно умер. Он занимает особое место в моем сердце, потому что этот композитор стал моим первым контактом с Украиной.
Возвращаясь к Тарковскому — я читал его «Воспоминания» и «Мартиролог». В моем ряду стоят: Феллини, Брессон, Параджанов. Кстати, конечно же я знал Феллини и Брессона, но Параджанова нет. Я открыл его для себя гораздо позже. Любопытно, что он, будучи не украинцем, снял один из самых красивых украинских фильмов.
В. Г.: – А какая музыка лично у Вас ассоциируется с фильмами Тарковского?
Л. Г.: – Бах. Потому что это что-то очень таинственное и священное… В западной музыке, если есть один композитор, который заставляет вас приблизится к Богу – это Иоганн Себастьян Бах. Я думаю, что Тарковский очень связан с этой метафизической и трансцендентальной музыкой. И потом, он сам часто использовал его композиции в своих картинах. Если пойти дальше, то, возможно, у меня также ассоциируется с ним православная, религиозная музыка, григорианские песнопения.
В. Г.: – Расскажите, пожалуйста, о Ваших дальнейших планах.
Л. Г.: – У меня есть интересный проект с Ником де Гроотом, который очень хорошо играет на контрабасе, я считаю его одним из лучших контрабасистов в мире, он действительно супер. Мы вместе играли на фестивале камерной музыки в Мичигане. И тогда Ник сказал мне: «Я хочу записать диск с концертом для контрабаса». Таких записей действительно очень мало. А потом он послушал запись нашего оркестра и сказал: «Да, хорошо, мне нравится все это, как ты там выступаешь и так далее. Может, нам сделать это вместе?». После я пригласил его в Украину. Летом мы сделали 1-ю часть диска, в октябре-ноябре — вторую.
Е. З.: – Что Вам лично интерестно в Украине кроме традиций?
Л. Г.: – ВРЕМЯ. Мне нравится здесь работать с оркестром. Да, ВРЕМЯ — это очень важно, потому что в Западной Европе у вас всегда на все про все 10 минут. Только подумайте, всего 10 минут! А потом — баста! Ок, уровень там, конечно, очень хороший, но они не совсем понимают, что на интерпретацию нужно время.
Знаете, я читал в дневнике Тарковского о его работе над «Жертвоприношением» в Швеции. В полдень актеры и вся съемочная группа прервали работу, чтобы отдохнуть и поесть. Тарковский был так поражен, что записал в своем дневнике: «Как это возможно — мы в художественном процессе, а люди просто остановились?.. потому что хотели есть?.. Как это возможно? Люди, которые едят во время искусства, никогда не могут быть настоящими художниками».
Я его понимаю и чувствую, что он прав. Я работал во Франции, Германии, Италии. Но здесь, в Украине мы можем больше сконцентрироваться на процессе, на Искусстве!
Например, сегодня мы закончили репетицию, хотя прошло всего 3 часа работы, и мы были только в середине произведения. Тогда я спросил: не возражаете, если мы продолжим? И все говорили: «Да, пожалуйста, продолжайте, конечно!». Никто не возражал. Понимаете?
В. Г.: – Может быть, в таком случае вам нужен какой-нибудь старинный замок далеко от города, с запасами воды и еды на месяцы, где Вы могли бы работать без ограничений по времени?
Л. Г.: – О да, это было бы прекрасно! И еще одна вещь, которая мне, как дирижеру не очень приятна: когда я нахожусь в Западной Европе, музыканты хотят от меня только практической и технической информации. Например: «Должен ли я играть на фортепиано, стаккато, легато? Дайте мне практическую информацию, а потом я это сделаю, я профессионал». Но дело не в профессионализме, дело в твоей душе, в эмоциях, в чем-то внутри тебя. В Западной Европе, когда заходишь в зал работать, то можно услышать что-то вроде: «Эй, что ты хочешь от меня? Я профессионал, так что оставайся там, а я остаюсь здесь». Но музыкальное искусство не в том, должен ли я делать «пааа…паааа» или «па». ПА. ПА. ПА».?. Речь идет о вопросе ПОЧЕМУ? ВАРУМ? Варум – это экзистенциальный вопрос. Это о том, что ты чувствуешь на своем ментальному уровне.
Здесь с музыкантами, в моем оркестре, я действительно могу больше работать над чувствами, над эмоциями. Это то, что делает мою жизнь очень счастливой, несмотря на сложные экономические условия. В Западной Европе все это слишком холодно, слишком профессионально и отстранённо.
В. Г.: – Это как играть только руками и разумом, но без сердца?
Л. Г.: – Точно.
В. Г.: – Позвольте нескромный вопрос: музыкой в Украине Вы зарабатываете достаточно для жизни?
Л. Г.: – В Украине очень и очень мало.
В. Г.: – Но почему?
Л. Г.: – Я думаю, тому есть много причин.
В. Г.: – Вы работаете здесь уже около шести лет, верно? И у вас есть некоторое представление о положении дел в стране. Что, по вашему, должно сделать государство, чтобы изменить эту финансовую ситуацию?
Л. Г.: – На мой взгляд, политики вообще должны больше делать для культуры, без экономии на ней. Это главный фактор для роста страны во всех сферах ее жизнедеятельности. А получается наоборот — учреждения, связанные с культурой, денег от государства не получают. И это, в принципе, неприемлемая ситуация. Люди искусства тоже работают. Они не могут есть хлеб с водой.
В. Г.: – Кто-нибудь из политиков посещал ваш оркестр?
Л. Г.: – (смеется) Ну, я точно не знаю, может быть.
Я вижу, что Киев заинтересован в оркестре, поэтому надеюсь, что будут какие-то изменения, потому что это очень важно. Я думаю, что политика должна понимать: здесь, в Украине, и не только культура — это не роскошь. Она придает смысл вашей жизни. Если ты получаешь много денег — конечно, хорошо быть богатым. Но не деньги могут дать ответы на вопросы: зачем ты здесь, на этой планете, в этом мире? Вы можете быть очень богатым и очень несчастным. Потому что у вас нет смысла, а смысл исходит из искусства, из трансцендентности, из причины, по которой мы здесь…
В. Г.: – У меня есть к вам предложение: пригласить Кличко на запись вашего диска.
Л. Г.: – (смеется) Ну, мы можем попробовать…
Только если говорить серьезно, для этого важна еще и запись. Если вы захотите пригласить Кличко или кого-нибудь из политиков, они спросят: кто вы такой? Тогда можно сказать: вот наша запись с исполнением Моцарта или Бетховена, Скорика, Лятошинского или с контрабасом. Тогда они могут прийти на наши концерты, это как визитная карточка. Так что диски очень важны для продвижения культуры и ее финансирования.
В. Г.: – Я думаю, что звук с контрабасом очень деликатный и непростой для записи.
Л. Г.: – Да, но у нас здесь прекрасный звукорежиссер, замечательная акустика, и, в результате, мы получаем очень хорошую запись.
В. Г.: – Поделитесь, пожалуйста, планами на 2022 год. Насколько я знаю, у вас были очень большие планы на 2020 и 2021 годы, но пандемия коронавируса резко изменила их.
Л. Г.: – Ах да, коронавирус был, нет, он и теперь для артистов и музыкантов — катастрофа.
В. Г.: – Все время пандемии Вы провели здесь, в Украине?
Л. Г.: – Нет. Я был во Франции, дома, но не работал. У меня было запланировано около 30 или 40 концертов, но все было отменено, ноль! И так было со всеми моими друзьями и коллегами. Все оркестры закрылись, катастрофа! В Украине было лучше, потому что…
В. Г.: – …нет дисциплины?
Л. Г.: – Нет, нет. Они просто сделали локдаун короче.
Сейчас, например, в Германии оркестр закрыт, во Франции то же самое.
На мой взгляд, если мы обращаем внимание на то, что мы делаем в сложных условиях, все должно быть в порядке, мы можем организовывать концерты. Я не понимаю, почему нет? Почему в Европе полностью отменили все концерты и культурные мероприятия? Для меня лично это выглядит очень недалёким решением.
В. Г.: – Иногда удавалось давать концерты в музеях, такой опыт был известен в XVII-м и XVIII-м веках.
Л. Г.: – Да, теперь это тоже возможно, иногда в музеях есть зрительные залы, и тогда вы можете играть и посещать этот музей. Я играл в Париже в Музее Орсе, во многих других музеях Франции. Также в Италии, но не так много.
В. Г.: – Важна ли связь между музыкой и картиной эпохи? В музее, я имею в виду.
Л. Г.: – Это хороший вопрос. Я думаю, что эпоха не важна. Я хочу сказать, что если музицировать в музее, то музыка не должна быть как картины — то есть, если картины XVIII-го века, то и музыка XVIII-го века. Конечно можно и так, но это же диалог! Например, у вас может быть современная музыка, связанная с традицией. И тогда у вас могут быть картины, например, XVII-го века, и современная музыка, вдохновленная другим временем. Это может быть более интересный диалог между разными временами.
Я не верю в профиль специализации, например, я играю только современную музыку или я играю только Баха.
В. Г.: – …или я играю только лучшую музыку.
Л. Г.: – Я глубоко уверен, что понять настоящее можно, только если вы знаете историю, если вы знаете свое прошлое, если вы знаете свою личность, если вы знаете, кто вы, если вы знаете, откуда вы пришли, каким был мир 100 или 400 лет назад… И, наоборот, вы не можете понять прошлое — и это очень важно — если вы не знаете, кто вы здесь и почему вы здесь. Так что это работает в две стороны — нам нужно прошлое, чтобы понять настоящее, и нам нужно настоящее, чтобы понять прошлое. Это самый естественный и красивый круг, и я думаю, что это вполне закономерный и понятный ответ на ваш вопрос о музее. В искусстве важно показать этот круг на примере взаимосвязи современных картин и музыки барокко, музыки барокко и романтических картин, и найти общность. А также разницу, конечно… Потому что разница интересная. Потому что нет такой взаимосвязи, что XVIII-й век лучше XVII-го века, а XIX-й век лучше XVIII-го века, а мы лучше наших предков. На самом деле прогресса нет, я не верю в прогресс, ровно, как и Тарковский.
Я думаю, что правда — не только здесь или только там. Солнце правды всегда рядом. И в любое время — барокко, классика, романтизм или современность — можно так выглядеть и видеть трансцендентность.
В. Г.: – Что для Вас истина?
Л. Г.: – Для меня правда подобна зову. Правда — это то, что зовет тебя, и ты должен ответить. Должен. Я не философ, меня не интересует онтологический статус истины, это не моя работа, я просто музыкант, обычный музыкант.
Но я чувствую что-то, что зовет меня, и я слышу этот голос истины, и я чувствую, что должен ответить ему и последовать за этим голосом. Например, в Библии есть Адам и Ева. Затем они едят яблоко. Затем Бог говорит: «Где ты, Адам?». Но почему Бог ищет? Бог есть Бог, Он знает все. Он, конечно, знает, где они. Бог спрашивает не потому, что не может их видеть, конечно, Бог все видит. Он спрашивает, потому что Адам и Ева должны спросить себя: где мы? Этот вопрос к нам. И для меня это правда. Где я и что я делаю со своей жизнью? И чтобы услышать этот голос, который спрашивает меня, действительно ли вы присутствуете в себе, или вы убегаете от себя и от мира? Этот голос для меня и есть истина, как я могу ее чувствовать.
В.Г.: – Что является вашим личным раем для вас и вашего оркестра?
Л.Г.: – О, это очень простой рай. Не такой уж он и высокий, мой рай. Следующим уровнем рая для меня будет международная деятельность, и я думаю, что мы создаем повседневное качество, и еще раз качество. И я думаю, что следующим шагом к раю будет то, что люди смогут услышать и увидеть это качество и этих прекрасных музыкантов.
В. Г.: – В Украине или в мире?
Л. Г.: – Сначала в Украине, а потом и в мире. В Германии, в Японии…
В. Г.: – Как вы думаете, через какое время это станет возможным?
Л. Г.: – Через четыре года. Мы с вами тоже должны встретиться через четыре года снова и вы скажете: «Луиджи, помнишь, ты говорил мне?..».
В. Г.: – Хорошо, мы можем запланировать следующее интервью через четыре года. В Германии, в Испании?
Л. Г.: – Давайте сделаем в Италии, она красивее.
В. Г.: – В Лигурии?
Л. Г.: – Хорошо, Лигурия. Это прекрасно.
В. Г.: – Что Вы обычно едите для сил или для вдохновения?
Л.Г.: – Утром пью только капучино, ничего не ем. Может быть, круассан иногда. Около 13:00 или 13:30 я обычно ем итальянскую еду, на самом деле еду из Лигурии, а не итальянскую. У нас есть паста с песто, рыба, фокачча, у нас есть пирожные с куччини. И тогда я счастлив быть здесь, потому что обычно, когда я во Франции, в Германии, я не могу это все есть, и это ужасно. А Украина — единственная страна за пределами Италии, где я доволен своей едой. Мне очень нравится украинская еда, я часто хожу в украинские рестораны, они действительно неплохие. Во Франции они, на самом деле, худшие.
Е. З.: – Мне сегодня не понравился этот кофе. Слишком крепкий и слишком кислый. Мне нравится пить кофе в Монако, например…
Л. Г.: – О, неплохо!
В. Г.: – …потому что это очень дорого (все смеются).
Луиджи, большое спасибо за интервью! Grazia millia!
Переклала з англійської – Ольга Яворська
Редактор – Оксана Хромова
Фото – Dariusz Kulesza